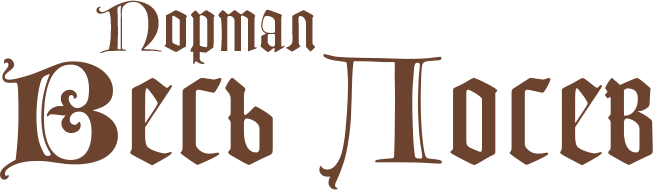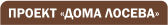Религиозно-философская позиция А.Ф. Лосева
В целом религиозно-философской позиции Лосева свойственны
острый антипантеизм и не менее острый антиагностицизм. В противовес
распространенным упрекам в пантеизме, высказываемым в адрес имяславия с момента
его зарождения, Лосев стремится с помощью платонической диалектики довести до
систематической ясности имеющееся, с его точки зрения, в имяславии учение о
предвечном, т. е. имеющем бытие до и вне акта творения, характере тех процессов
и явлений, которые акцентировались в качестве центральных в имяславии,
символизме и софиологии, хотя это учение и не всегда, по Лосеву, выражалось в
отчетливой антипантеистической форме. К исходной Триаде Первосущности Лосев
присовокупляет четвертое (софийное) и пятое (символическое или ономатическое)
начала.
Это «расширение» Троицы не является, согласно Лосеву, ее четверением
или многобожием (в чем также часто упрекали русских платоников) по той причине,
что исходная Триада берется здесь как замкнутое единство, являющееся
порождающим истоком для четвертого и пятого начал, выполняющих по отношению к
исходной Триаде в ее целостном единстве функции, аналогичные функциям второго и
третьего начал в самой исходной Триаде.
Лосевская пентада — это тоже триада, но триада как бы второго порядка, в
которой число «пять» есть лишь «арифметический» показатель,
не нарушающий принципа фундаментальной троичности. Идея триады второго порядка
— закономерное следствие двух несущих опор лосевской позиции в целом: по-новому
понимаемого платонизма и остро переживаемого персоналистического принципа
христианства. Платонизм, согласно Лосеву, во-первых, монистичен (а не
дуалистичен), а во-вторых, будучи очищен от языческого мифологического
наполнения, должен мыслиться применимым в своей диалектике исключительно к
области самой Первосущности (или к области тварного мира), но никак не к
проблеме соотношения Бога и тварного мира. Такой подход лишит, по Лосеву, всякого
смысла саму постановку вопроса о пантеизме, т.е. о сущностном отождествлении
Бога и тварного мира. Будучи же примененным в сфере Первосущности, платонизм
требует, чтобы «смысл» или «идея» обладали имманентной
самой Первосущности субстанцией (телесностью). Четвертое (софийное) начало и
добавляет, с лосевской точки зрения, к исходной Триаде как области чистого
смысла категорию «ставшего», т.е. субстанцию. Третьим принципиальным
моментом, выделяемым Лосевым в платонизме, является символизм, т.е. требование
символического единения «идеи» и «субстанции». Отсюда
логически неизбежное включение в лосевской модели и пятого, символического,
начала, объединяющего исходную Триаду как чистый смысл с четвертым началом как
субстанцией.
Если составляющие исходной Триады характеризуются как разные варианты
«бытия-в-себе», то четвертое, софийное, начало — как бытие
одновременно «для-себя» и «для-иного», а пятое,
символическое, начало — как чистое бытие «для-иного». Появляющаяся здесь
категория «иного» не предполагает у Лосева наличия реального
«иного», но мыслится как предвечный принцип, имманентный самой
Первосущности. Здесь вступает в силу вторая несущая опора лосевской мысли —
общехристианский персонализм. При персоналистическом понимании Первосущности,
резко разводящем языческий и христианский платонизм, предвечный характер
«иного» получает вполне определенный и однозначный смысл. Если для
безличной сущности факт ее явления обязательно предполагает некоторое
удостоверение со стороны, т.е. наличие реального «иного», реальной
внеположенной и воспринимающей субстанции, то для факта явления личностной
сущности такое реальное «иное» необязательно.
Конститутивный, по Лосеву, момент всякой личности — ее явление самой же себе,
противопоставление себя себе же (что, конечно, не исключает других форм ее
проявления в реальном «ином»). Четвертое и пятое лосевские начала —
это диалектическая транскрипция самообъективации, самосознания и самообщения
Абсолютной Личности. Фактически Лосев вводит здесь обоснование абсолютно полного
тождества сущности и явления, но применительно лишь к личностному бытию. В
личностном бытии воспринимающая субстанция тождественна субстанции
воспринимаемой, и символ несет в этом случае в себе саму сущность. Бытие
Абсолютной Личности — это нераздельное и неслиянное бытие «для себя»
и одновременно «для-иного»; самоявленность становится, таким образом,
конститутивной, по Лосеву, характеристикой личностного бытия. Факт явления Себя
Себе же Абсолютная Личность «закрепляет» в данном себе Имени (пятое
начало), т.е. в праимени (или в прасимволе). Сущность и субстанция праимени не
имеют никакой связи с тварным бытием; праимя — это фиксация Абсолютной
Личностью своего Самоявления, это исходное начало и условие второй
конститутивной черты личностного бытия, которую выводит Лосев, — самообщения.
Самообщение — оборотная сторона самоявленности, и в этом
смысле коммуникативность вместе с явленностью становятся у Лосева абсолютными
онтологическими (а не только гносеологическими) принципами. Общение, по Лосеву,
не сводится к познанию, коммуникативность — это онтологический стержень самого
бытия, а не техническое, привнесенное извне средство его познания. По отношению
к бытию «в-себе» явленность и коммуникативность занимают то же
положение, которое мыслится в исихазме за энергией в ее отношении к сущности.
Как и энергия сущности, явленность и коммуникативность предвечны, они не
выводят рассуждение за пределы Абсолюта, не имеют тварного (чувственного) тела,
и потому такое понимание софийного, четвертого, начала и праимени исключает, по
Лосеву, всякие упреки софиологии и имяславию в пантеизме.
Вместе с тем Лосев не мог не обосновать и свое понимание типов соотношения
предвечной нетварной символики с тварным миром, т.е. не мог не обосновать
наряду с антипантеизмом и принципиальный антиагностицизм. Исходный тезис здесь
очевиден: если предвечность энергии не мешает ей, с точки зрения критиков
русского платонизма, некоторым образом проникать в тварный мир, то равно по тем
же причинам в тварном мире могут проявляться и символически-коммуникативные
аспекты Первосущности. Однако лосевская позиция обладает здесь рядом
специфических черт, отличающих ее как от антиплатонических версий исихазма, так
и от некоторых концепций единомышленников-платоников. Тварный мир, по Лосеву,
не есть ни явление Первосущности (т.е. не укоренен в Ней), ни Ее прямой символ.
Это два несводимых друг к другу бытия со своими сущностью («идеей») и
субстанцией («материей»). «Идеи» тварного мира не
укоренены, по Лосеву, не только в самой Первосущности, но даже в Ее энергиях;
эти идеи понимаются Лосевым как тварные («первозданные»); между ними
и чувственным миром существуют сложные, в т.ч. и символические,
многоступенчатые отношения, аналогичные неоплатонической иерархии (в то время
как в области Первосущности всякий иерархизм отрицается). В отличие от
традиционного понимания платонически ориентированных философских концепций,
согласно которому в центре стоит проблема соотношения между этими идеями и
тварной субстанцией, Лосев акцентирует свою систему на тех взаимоотношениях
Бога и тварного мира, которые прямо не связаны с актом творения, но как бы
«последствуют» ему (т.е. на икономическом аспекте). Лосев занят теми
отношениями Бога и «уже» сотворенного мира, которые способствуют исполнению
исходного замысла творения, составляющего не идею или сущность тварного мира,
но его цель, понимаемую как воссоединение с Богом. Для Лосева проблема
воссоединения есть прежде всего проблема коммуникации, т.е. общения Бога с
человеком и человека с Богом. Согласно Лосеву, на какое-либо иное понимание
воссоединения (субстанциальное или чисто энергетическое) накладывает запрет сам
персоналистистический принцип христианства. Даже на вершинах мистической жизни
речь, по Лосеву, может идти о воссоединении с Богом лишь в коммуникативном
смысле, ибо человек сохраняет свою личностную определенность и находясь «в
Боге». Личностное отношение к личностному Богу может быть только
коммуникативным.
В этом гиперкоммуникативном ключе перенастраиваются у Лосева все традиционные
проблемы «икономического» богословия. Меняется и сама постановка
вопроса о познаваемости или непознаваемости Бога, который корректней звучит в
этом контексте как проблема Его сообщимости или несообщимости. Ставить вопрос о
познаваемости Бога в прямом смысле слова «познание» — значит нарушить
абсолютную персоналистическую границу между Богом и человеком, отождествив их в
разуме или предположив возможность такого отождествления (рационалистический
пантеизм). Центральный лосевский тезис в этой области, провозглашающий синтез
апофатизма и символизма, означает, что Бог непознаваем (в рационалистическом
смысле), но сообщим.
Залог общения между Богом и тварным миром — коммуникативная энергия
Первосущности, причем сама энергия тоже понимается коммуникативно.
Функциональным синонимом энергии в лосевских текстах часто выступает понятие
смысла, но смысла не как статичной идеи, составляющей сущность вещи, а как
именно коммуникативного, т.е. смысла, по своей изначальной природе
приуготовленного к «сообщению». Приобретает коммуникативные
коннотации у Лосева и понятие символа, что рельефно отражает общую специфику
его позиции на фоне общепринятых толкований символа, т.е. на фоне его понимания
не как «сообщения», но как вещи среди других вещей, к которой должны
быть применены обычные познавательные процедуры. Для Лосева познание структуры
символа тоже необходимый момент, которому посвящаются специальные разделы в его
работах, но это лишь техническое средство, обеспечивающее главное —
коммуникативное понимание символа. Философский статус понимания должен быть, по
Лосеву, значительно выше статуса познания.
При абсолютизации познания исчезает персоналистическая
граница между субъектом и объектом, они сливаются в некий общий смысл, что,
помимо прочего, может служить предпосылкой сущностного пантеизма. Отсюда в
известный тезис о том, что вещь познается, а личность понимается, Лосев как бы
добавляет еще одно логическое звено: личность (в отличие от вещи) понимается,
но понимается не непосредственно, а через символы. «Непосредственное»
понимание абсурдно, т.к. в этом случае исчезает грань между понимаемой и
понимающей (т.е. общающимися) личностями, а само общение редуцируется до
простого рационального познания. «Вещное», внекоммуникативное
понимание символа — это, по Лосеву, реликт старых толкований платонизма, реликт
языческого пантеизма, в котором смысл символа интерпретируется не как сообщение
(= энергия) сущности, а как сама сущность.
Естественно, что такая коммуникативная аранжировка основных категорий требовала
существенных изменений в толковании форм символической связи Бога и тварного
мира. Лосев не мог уже удовлетворить непосредственный символизм эстетических и
даже философско-платонических теорий, и, чтобы избежать этой
непосредственности, он разрабатывает концепцию символов второй (и большей)
степени, в которой диалектически обосновывает многоэтапную трансформацию
энергии Первосущности сначала в субстанцию вторичного (не чувственного)
символа, а затем в коммуникативный смысл непосредственно чувственного символа
(см. Двойной символ). Помимо собственно философского обоснования эта концепция
получает у Лосева и математическое объяснение.
Над этой концепцией, в свою очередь, надстраивается и оригинальная лосевская
теория мифологии (см. Абсолютная мифология). В целом
коммуникативно-энергетический символизм Лосева, максимально снижающий
значимость тварной материи в Богообщении, может быть охарактеризован как
радикальная антипантеистическая версия имяславия. Однако при всей своей
радикальности он остается в пределах общего имяславского учения.
Общая религиозно-философская позиция Лосева определила собой понимание им
насущных проблем частных гуманитарных наук и те методы их решения, которые были
предложены им в 40—80-е гг. Так, сформулированная в конце 20-х гг. в качестве
главной стоящей перед наукой задачи проблема типологического изучения
«относительных» мифологий терминологически трансформировалась
впоследствии в проблему типологии культурных эпох. Лосев производит
исчерпывающий и систематически изложенный типологический анализ античности
(«История античной эстетики» и др. работы), в более сжатой форме решает
аналогичные проблемы применительно к эпохе Возрождения («Эстетика
Возрождения»), а в многочисленных кратких исследованиях по истории
философии намечает и типологические контуры всех других этапов европейской
истории.
Наиболее парадоксальной, но вместе с тем и выразительной иллюстрацией глубинной
зависимости между общей религиозно-философской позицией Лосева и анализируемыми
им частными гуманитарными проблемами является его оригинальная лингвистическая
концепция. В тех работах, в которых непосредственным предметом лосевских
исследований стал естественный человеческий язык («Языковая
структура», «Знак. Символ. Миф» и др.), Лосев утверждает —
казалось бы, вопреки его имяславским взглядам — наличие принципиальных различий
между коммуникативным символизмом, напрямую связанным с энергией Первосущности
(т.е. предметом лосевской философии языка 20-х гг.), и сферой непосредственно
человеческого языка. Различия эти связаны с изменением статуса категории
«иного»: если в сфере Первосущности «иное» мыслилось лишь как
принцип самосознания личности, то применительно к естественному человеческому
языку «иное» — это реальная, значимая сама в себе субстанция,
вступающая тем самым в права носителя явлений сущности и даже их в некоторой
степени оформителя.
Это — человеческое сознание, пользующееся языком в коммуникативных и
гносеологических целях. Характеризующий область Первосущности тезис о полном
энергетическом тождестве сущности и явления в праимени трансформируется в сфере
естественного языка в тезис о принципиально интерпретативной природе всякого
чувственного языкового знака, т.е. о его фундаментальном свойстве
«брать» предмет с той или иной частной точки зрения. Эта частная
интерпретативность рассматривается как неизбежное действие человеческого
сознания, налагающего на сущность ограничители ее выразимости. Степень
интерпретативности в языке может быть разной: максимальной (доходящей до
полного искажения сущности передаваемого явления) или минимальной
(приближающейся к адекватному выражению сущности), но сам принцип
интерпретативности непреодолим для собственно языкового явления.
Исходя из этого положения, Лосев отрицает сколь бы то ни было принципиальную
значимость той границы, которая вслед за Ф. де Соссюром обычно мыслится между
системой языка и речи, признавая, однако, логическую правомерность такого
разделения и связанные с ним технические удобства, стимулировавшие появление
новых исследовательских методов в языкознании. Системные языковые значения
(лексические и грамматические) не являются, по Лосеву, чистым отражением
логических законов выявления сущности в человеческом разуме (как это чаще всего
понимается в неокантианстве), не являются они также и чистым описанием
интеллектуально-интуитивной данности статичных смысловых структур без всякого
объяснения их связи с сущностью (как это мыслится в феноменологии).
Системные языковые значения несут в себе наряду с этими
моментами и обязательный момент интерпретативности (т.е. аксиологические,
мифологические, коммуникативные и др. нюансы), и соответственно система любого
языка есть, по Лосеву, специфическая система миропонимания. Казалось бы,
принципиальный реализм имяславия сменился здесь релятивизмом типа гипотезы
Сепира-Уорфа, однако в лингвистической теории Лосева этого не происходит
вследствие ее установки на фундаментальную для Лосева константу —
принципиальный персонализм.
Та свобода, которой человек обладает в сфере «речи», может, по
Лосеву, не только усиливать системную относительность языковых значений, но и
погашать ее за счет их речевой переинтерпретации. Интерпретативность может быть
преодолена только интерпретацией же, и сделать это может только человек как
автор реальной речи, как реальный участник коммуникативного акта. Это положение
напоминает тезис о примате синтаксиса над лексической семантикой, однако такое
его понимание не было бы адекватно лосевской мысли и имяславию в целом, т.к.
между именованием и синтаксисом в имяславии не мыслится никакой непреодолимой
границы (само имя рассматривается здесь как свернутое предложение трехчастной
структуры: подлежащее, связка и предикат; в наиболее отчетливом виде эта
сторона имяславия была разработана Булгаковым).
Для Лосева именование и синтаксис есть частные случаи более общей категории —
коммуникации, и как таковые они не только сопоставимы, но способны к взаимной
трансформации. Определенный приоритет имени сохраняется Лосевым и здесь, но имя
понимается при этом не в лингвистическом, а в философском смысле: как процесс
самоименования сущности, обеспечивающий ее явленность и ограничивающий
агностические потенции языка. Давая обзор исторических типов предложения, Лосев
выделяет в качестве наиболее способного к переинтерпретации тип именного
предложения, в котором явление сущности, плененное языковой плотью на уровне
системы языка, освобождается от нее на уровне синтаксиса в реальной речи.
Проявительные функции имени берет здесь на себя именительный падеж или, что
существенно, подлежащее как таковое. Так как в синтаксической роли подлежащего
может выступать любая часть речи вплоть до наречия или междометия, то в
синтаксисе интерпретативный диктат грамматики отступает, а коммуникативный
смысл сообщения может становиться косвенным, т.е. содержательно независимым от
чувственной плоти языка, хотя он и будет продолжать передаваться именно с ее
помощью. В случае же своей независимости от языковой плоти коммуникативный смысл
получает возможность стать звеном в той энергетической символической
«цепочке», которая исходит от Первосущности или восходит к Ней (см.
Двойной символ). Лингвистическая теория Лосева, таким образом, смыкается с его
имяславской богословской концепцией.
Общая религиозно-философская концепция Лосева способствовала разработке им
оригинальных собственно научных теорий и в других гуманитарных областях. Среди
них типологическая и историческая систематизация философских категорий;
диалектическая теория основ математики; общая теория художественных форм;
частные эстетические концепции (например, вошедшая в консерваторские курсы
концепция музыкального бытия); аксиоматика знака; теория стиля и др. Как и в
лингвистической концепции, связь этих теорий и религиозной позиции Лосева не
лежит «на поверхности», но вскрывается лишь в их глубинных смысловых
пластах: в диалектической подоснове, аксиологии и телеологии. Связь эта
становится доступной для анализа только в том случае, если иметь в виду
специфически лосевскую интерпретацию платонизма и имяславия.
Осознавая определенную стилистическую «непрозрачность» своего языка,
Лосев пишет в конце жизни книгу «Владимир Соловьев и его время»,
которая может служить своего рода компасом для более точной ориентации в его
собственных текстах. Последовательно обрисовывая контуры той ведущей отсчет от
Вл. Соловьева платонической традиции, приверженцем которой он всегда оставался,
Лосев отчетливо фиксирует здесь и те пункты, по которым он принципиально не
согласен с Вл. Соловьевым (нечеткое разведение тварной и нетварной Софии,
отсутствие эксплицитной связи платонических интуиции с символизмом и
т.д.).
Соч.: Античная мифология в ее историческом развитии, 1957; Античная музыкальная
эстетика, 1961; Введение в общую теорию языковых моделей, 1968; Проблема
символа и реалистическое искусство, 1976; Античная философия истории, 1977;
Эстетика Возрождения, 1978; Знак. Символ. Миф, 1982; Языковая структура, 1983;
Владимир Соловьев и его время, 1990; и др.
Лит.: Франк С.Л. Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия. Париж,
1956; Зеньковский В.В. История русской философии. Париж, 1950. Т. 2, ч. IV;
Лосский Н.О. История русской философии. М., 1994; Аверинцев С.С. Памяти учителя
// Контекст-1990. М., 1990; Его же: Мировоззренческий стиль: Подступы к явлению
Лосева // В.Ф. 1993. №9; Тахо-Годи А.А. А.Ф. Лосев: Жизнь и творчество // Лосев
А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М., 1991; Я — Лосев // Москва. 1992. №
9-10; Хоружий С.С. Арьергардный бой: Мысль и миф Алексея Лосева // ВФ. 1992. №
10; Бибихин В.В. Из рассказов А.Ф. Лосева // Начала. 1993. № 2; Гоготишвили
Л.А. Религиозно-философский статус языка // Лосев А.Ф. Бытие. Имя. Космос. М.,
1993; Абсолютный Миф Алексея Лосева (Дискуссионный сборник) // Начала. 1994. №
1—2.
Л. Гоготишвили